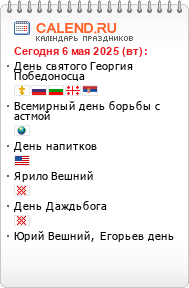Предлагаю в этой теме выкладывать любимые и понравившиеся короткие рассказы и стихотворения в прозе (кроме притч, они достойны отдельной темы)
Мастером юмористической миниатюры в русской классической литературе признан А.П. Чехов. В честь его юбилея и открываем нашу новую тему его небольшой юмористической заметкой
"Мой юбилей"
Юноши и девы!
Три года тому назад я почувствовал присутствие того священного
пламени, за которое был прикован к скале Прометей... И вот три года я
щедрою рукою рассылаю во все концы моего обширного отечества свои
произведения, прошедшие сквозь чистилище упомянутого пламени. Писал я
прозой, писал стихами, писал на всякие меры, манеры и размеры, задаром и
за деньги, писал во все журналы, но... увы!!!... мои завистники находили
нужным не печатать моих произведений, а если и печатать, то непременно в
"почтовых ящиках". Полсотни почтовых марок посеял я на "Ниве", сотню
утопил в "Неве", с десяток пропалил на "Огоньке", пять сотен просадил на
"Стрекозе". Короче: всех ответов из всех редакций получил я от начала моей
литературной деятельности до сего дня ровно д в е т ы с я ч и! Вчера я
получил последний из них, подобный по содержанию всем остальным. Ни в
одном ответе не было даже и намека на "да". Юноши и девы! Материальная
сторона каждой моей посылки в редакцию обходилась мне, по меньшей мере, в
гривенник; следовательно, на литературное препровождение времени просадил
я 200 руб. А ведь за 200 руб. можно купить лошадь! Доходов в год я имею
800 франков, только... Поймите!!! И я должен был голодать за то, что
воспевал природу, любовь, женские глазки, за то, что пускал ядовитые
стрелы в корыстолюбие надменного Альбиона; за то, что делился своим
пламенем с... гг., писавшими мне ответы... Две тысячи ответов - двести с
лишним рублей, и ни одного "да"! Тьфу! и вместе с тем поучительная
материя. Юноши и девы! Праздную сегодня свой юбилей получения
двухтысячного ответа, поднимаю бокал за окончание моей литературной
деятельности и почиваю на лаврах. Или укажите мне на другого, получившего
в три года столько же "нет", или становите меня на незыблемый пьедестал!
Прозаический поэт
* комментарий от Vanessi - во времена А.П. Чехова (и значительно позднее тоже) критиковать политику туманного Альбиона было черезвычайно модно, кто только не пускал этих самых "ядовитых стрел" в сторону всеми нами любимого острова. Даже во времена эмиграции первой волны в русских газетах города Риги любили покритиковать Англию. И ещё как увлекались этим. 
Отредактировано vanessa (2010-01-30 17:05:00)