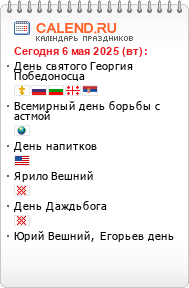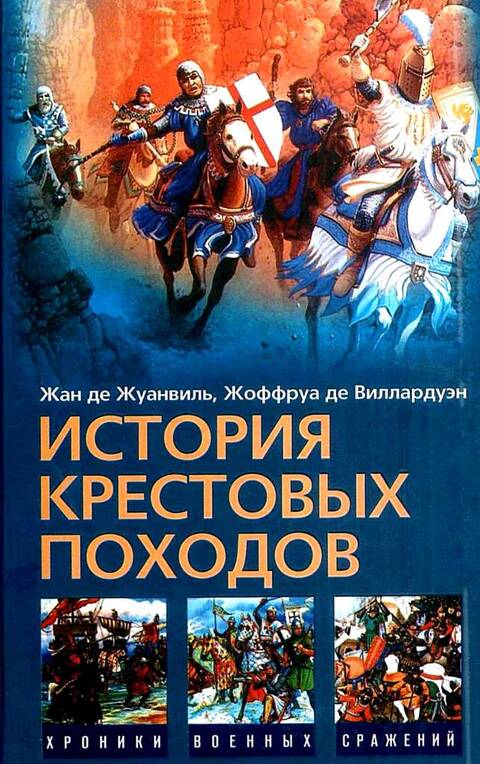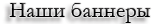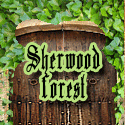Какая-то у автора статьи манера интересная.
Автор сейчас пишет в специфическом стиле, видимо, чтобы подписчиков новых привлекать, но иногда это приводит к тому, что некоторые вещи становятся непонятными при не очень корректном цитировании первоисточников.
То есть, хватали каких-то левых людей с деньгами, то есть, не нищих и подвергали их пыткам (хз зачем), отбирали деньги. Не по суду, не во время войны.
Ну так там же и шла война, хорошая такая гражданская война 30-50-х гг XII века между Стефаном и Матильдой, и «героем» этой войны тоже был вполне себе «разбойник» Жоффруа де Мандевиль, 1 граф Эссекс. Его за бесчинства, разбои и грабежи от церкви отлучили.
Меня статья привлекла образом Эппелейна фон Галлингена, о котором я раньше, каюсь, не знала. Подумалось, такой романический сюжет с прыганием на коне со стены, и никто этим сюжетом и образом героя не воспользовался в фильмах, насколько я помню.
Что касается вопросов к автору, то тут один большой вопрос, как разделять по прошествии стольких столетий "настоящих" разбойников и «разбойников» с более-менее "идеологическим" содержанием поведения. Тот же де Мандевиль казалось бы разбойник-разбойник, но так как участник этой английской политической «анархии» 30-50-х гг., то как бы и не разбойник.
Кроме того, а куда автор засунул такое явление, как лица дворянского происхождения, которые не имеют ни земли, ни сюзерена и просто промышляют разбоем?
А этот момент он разовьет, если еще не развил, в каком-нибудь другом дзеновском сюжете. Куда ему торопиться.